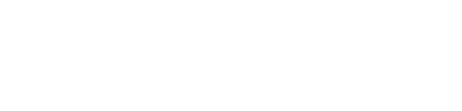Хлеб насущный военного времени



C началом Великой Отечественной войны новосибирцы стали ощущать острую нехватку продуктов, а затем и самый настоящий голод. Организация и распределение продовольствия — таким образом, чтобы избежать массовых жертв голода и обеспечить питание рабочих оборонных предприятий, — стали одной из основных задач местных властей. Практика ее решения приводила и к успехам, и к провалам.
Летом 1941 года на новосибирских базарах еще сохранялся предвоенный уровень цен. Молоко продавали по 3-4 руб. за литр, килограмм мяса стоил 18-24 руб., а картофеля — 2-2,5 руб. Но вызванные военным временем ограничения на отпуск продовольственных товаров не заставили себя ждать. С 1 сентября в Новосибирске, как и в других крупных городах, были введены карточки на хлеб и сахар. В ноябре 1941-го карточная система распространилась почти на все продукты первой необходимости.
Продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по карточкам в городе была организована в соответствии с решением новосибирского горисполкома от 30 августа №770. Нормы снабжения были дифференцированы по группам населения (рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет) и по занятости в оборонном производстве. Для каждой группы установили свою норму выдачи жизненно необходимых продуктов и, в первую очередь, хлеба.
Нормы снабжения населения по карточкам неоднократно менялись в годы войны, и чаще всего — в сторону уменьшения. Потеря карточек или их кража были большой трагедией: карточки не восстанавливались, и месяц до выдачи следующих приходилось выпрашивать продукты у знакомых или обменивать на них домашние вещи.
Продажа хлеба, сахара и кондитерских изделий по карточкам в городе была организована в соответствии с решением новосибирского горисполкома от 30 августа №770. Нормы снабжения были дифференцированы по группам населения (рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет) и по занятости в оборонном производстве. Для каждой группы установили свою норму выдачи жизненно необходимых продуктов и, в первую очередь, хлеба.
Нормы снабжения населения по карточкам неоднократно менялись в годы войны, и чаще всего — в сторону уменьшения. Потеря карточек или их кража были большой трагедией: карточки не восстанавливались, и месяц до выдачи следующих приходилось выпрашивать продукты у знакомых или обменивать на них домашние вещи.
Спастись удавалось далеко не всем. С июля 1941 года по август 1944-го смертность в Новосибирской области превысила довоенный уровень почти на треть. Из-за преобладания смертности над рождаемостью естественный прирост населения обратился в естественную убыль. В 1943-1945 годах, по данным историка Алексея Теплякова, в Новосибирске от голода погибли 3,5 тыс. человек.
В Новосибирске для организации карточной системы было создано Городское карточное бюро, такие же бюро были организованы при районных исполкомах. Их сотрудники контролировали исполнение правил выдачи карточек, их учета и хранения. Они проверяли заявки на карточки, оформленные предприятиями и учреждениями, вели борьбу со злоупотреблением продовольственными карточками, изымали карточки у тех рабочих и служащих, которых увольняли с предприятий и из учреждений.
К концу октября 1941 года в Новосибирске была развернута торговля по карточкам не только хлебом, но и другими продуктами питания. Обычная месячная норма по рабочей карточке обеспечивала такой набор: мясо, рыба (1,8 кг), жиры (0,4 кг), крупа и макаронные изделия (1,2 кг). Служащие, иждивенцы и дети получали меньше. Рабочим, перевыполнявшим нормы, полагалось 100 г хлеба дополнительно. Те же, кто не справлялся с выработкой, напротив, получали на 100 г меньше установленного пайка.
Дополнительные талоны на спецпаек получали беременные женщины и кормящие матери, при этом пайки выдавались по требованию через женские консультации. Беременным, начиная с шестого месяца, и кормящим матерям в течение первых четырех месяцев после родов отпускалось сверх установленных норм снабжения 800 г масла, 500 г сахара, 1,2 кг крупы и 12 л свежего молока.
Существовала и особая схема питания детей. Новосибирский горисполком утверждал список школ с указанием количества учащихся и принадлежности к определенному тресту столовых. В начале каждого месяца дети сдавали продовольственные карточки на крупу-макароны, мясо, рыбу, жиры в столовые, чтобы затем в течение месяца получать обеды. Хлебные карточки «вырезались» кассой столовой «на фактически отпущенный хлеб к обеду».
Учителя и врачи Новосибирска могли отоваривать продовольственные карточки в специальном магазине.
Существовала и особая схема питания детей. Новосибирский горисполком утверждал список школ с указанием количества учащихся и принадлежности к определенному тресту столовых. В начале каждого месяца дети сдавали продовольственные карточки на крупу-макароны, мясо, рыбу, жиры в столовые, чтобы затем в течение месяца получать обеды. Хлебные карточки «вырезались» кассой столовой «на фактически отпущенный хлеб к обеду».
Учителя и врачи Новосибирска могли отоваривать продовольственные карточки в специальном магазине.
Карточная система, как и всякий дефицит, неизбежно порождает нарушения и злоупотребления. В Новосибирске фиксировалось большое количество нарушений правил карточного режима. Случаи хищения продуктовых карточек встречались на многих предприятиях и учреждениях города. Часто подделывались и справки, куда вносились несуществующие иждивенцы, на которых в дальнейшем получались продовольственные карточки.
«Покупать хлеб, точнее, получать его по карточкам в магазине на углу улиц Октябрьской и Советской — неукоснительная детская прерогатива, пока взрослые с раннего утра до позднего вечера на работе. Собирались обычно всем двором и торжественно шествовали к магазину, зажав в ладошках измятые карточки с отрезными купонами на ежедневную норму»,— вспоминал житель Новосибирска Валерий Тарасов.
В 1942 году продажей продовольствия горожанам занимались 219 бакалейно-гастрономических, хлебных и других магазинов, а также пять рынков. Самыми крупными из рынков были Ипподромский, на который приходилось 60% оборота, и Октябрьский (25%). В городе работало четыре хлебозавода и восемь крупных хлебопекарен.
«Покупать хлеб, точнее, получать его по карточкам в магазине на углу улиц Октябрьской и Советской — неукоснительная детская прерогатива, пока взрослые с раннего утра до позднего вечера на работе. Собирались обычно всем двором и торжественно шествовали к магазину, зажав в ладошках измятые карточки с отрезными купонами на ежедневную норму»,— вспоминал житель Новосибирска Валерий Тарасов.
В 1942 году продажей продовольствия горожанам занимались 219 бакалейно-гастрономических, хлебных и других магазинов, а также пять рынков. Самыми крупными из рынков были Ипподромский, на который приходилось 60% оборота, и Октябрьский (25%). В городе работало четыре хлебозавода и восемь крупных хлебопекарен.
Рыночные цены на некоторые продукты в течение войны выросли в десятки раз и стали практически неподъемными для большинства трудящихся. Говядина в июне 1943 года стоила 200-400 руб. за килограмм, картофель — 40-60 руб. Цена растительного масла к этому месяцу поднялась до 400-450 руб.
Ежемесячные же доходы новосибирцев были невелики. Рабочие на военных заводах получали по 600–700 руб. в месяц, рабочие прочих отраслей и на вспомогательных производствах — 300-600 руб. Машинисты локомотивов зарабатывали до 1 тыс. руб., врач в больнице — 600-800 руб. в зависимости от должности. Машинистка в учреждении получала 200-250 руб., а уборщица — всего 160 руб. По словам одного из жителей Новосибирска военных лет, «продуктов по карточкам всегда не хватало, приходилось покупать хлеб по коммерческим ценам: 230 руб. кирпичик». «Паек давали военный: муку, крупу, сахар. А ведро картошки на базаре – 300 рублей. В еду добавляли лебеду, щавель. В магазинах на прилавках пусто. Военное голодное время…»,— записал его современник.
В меню заведений общепита появились «поэтические» названия блюд. Придумывали их то ли сами повара, то ли посещавшие столовые рабочие. «Затирухой» называли болтушку из муки или крупы, «голубой ночью» — суп из ботвы, «карими глазками» — уху из головок воблы. Вода с горохом получила название «осень». Значились в меню и простые щи, но от обычных щей они отличались радикально и представляли собой воду с крупно порубленной капустой.
В меню заведений общепита появились «поэтические» названия блюд. Придумывали их то ли сами повара, то ли посещавшие столовые рабочие. «Затирухой» называли болтушку из муки или крупы, «голубой ночью» — суп из ботвы, «карими глазками» — уху из головок воблы. Вода с горохом получила название «осень». Значились в меню и простые щи, но от обычных щей они отличались радикально и представляли собой воду с крупно порубленной капустой.
В столовых не хватало тарелок и ложек. Поэтому иногда суп наливали в консервную банку, а второе — комок каши или лапшу — накладывали прямо в ладони. Первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Михаил Кулагин в декабре 1942 года говорил по этому поводу, что в столовых под предлогом воровства прячут ложки и заставляют рабочих «щи хлебать через край, по-поросячьи», а «картошку есть руками». Он же отмечал, что Новосибирск оказался в состоянии принять и разместить эвакуированные предприятия, но «позорно провалился с обеспечением занятых на них рабочих нормальными условиями для жизни и работы».
Спасением для многих горожан стало огородничество. Под посадки были отданы большие участки как в пригороде, так и в самом Новосибирске. Распахивали палисадники у домов, скверы, газоны, сады, парки, стадионы, откосы рек. Будущая площадь Маркса в левобережной части вообще превратилась в один большой огород. В 1941 году огороды жителей занимали 7 тыс. га, а в 1944-м — уже 48 тыс. га. От голода новосибирцев спасал, прежде всего, картофель. Его потребление стабильно увеличивалось в течение всей войны. Если в 1942 году один человек в рабочей семье потреблял 198,2 кг картофеля, то в 1944 году — 324,5 кг.
Спасением для многих горожан стало огородничество. Под посадки были отданы большие участки как в пригороде, так и в самом Новосибирске. Распахивали палисадники у домов, скверы, газоны, сады, парки, стадионы, откосы рек. Будущая площадь Маркса в левобережной части вообще превратилась в один большой огород. В 1941 году огороды жителей занимали 7 тыс. га, а в 1944-м — уже 48 тыс. га. От голода новосибирцев спасал, прежде всего, картофель. Его потребление стабильно увеличивалось в течение всей войны. Если в 1942 году один человек в рабочей семье потреблял 198,2 кг картофеля, то в 1944 году — 324,5 кг.
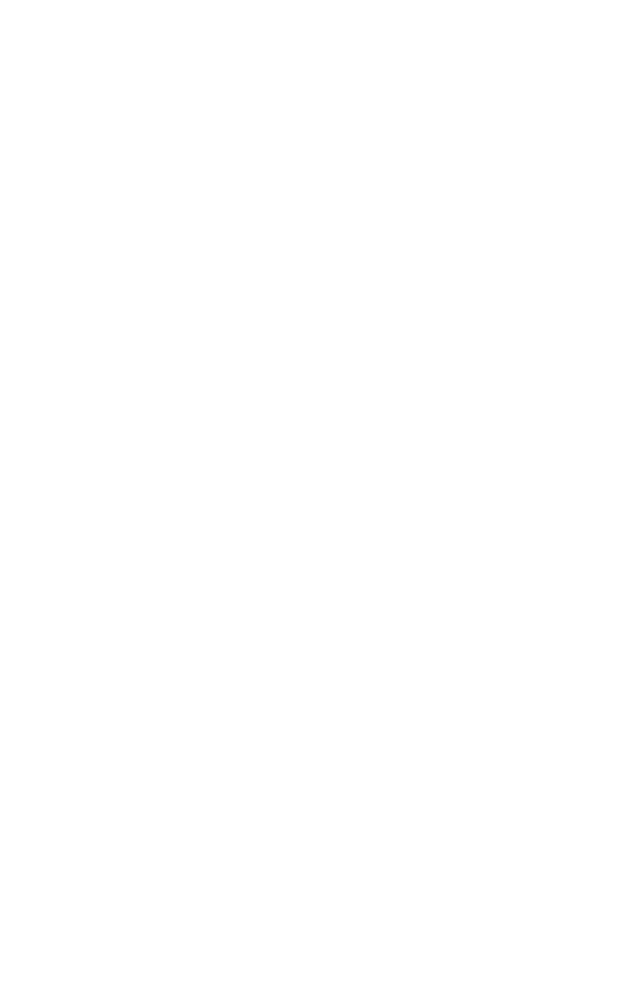
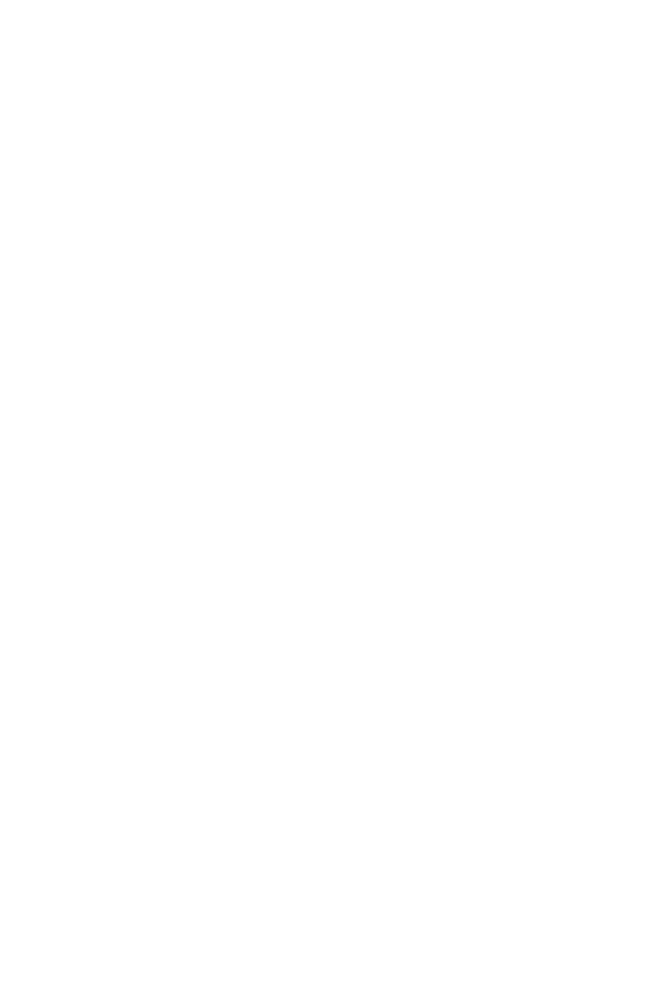
«Картошку сажали прямо на улицах, где не ходили машины. Можете вы себе представить: все улицы от Ядринцевской до Гоголя и далее до железной дороги засажены картошкой? Остро не хватало семенного материала. Каждая картофелина разрезалась на несколько частей, собирались даже картофельные очистки, которые проращивались и с “глазками” высаживались в поле»,— рассказывал новосибирец Юрий Феоктистов. Из замороженного картофеля, который выкапывали весной на полях, пекли так называемые «тошнотики».
Многие жители Новосибирска имели домашний скот. На городских улицах можно было встретить пасущихся коз, коров, лошадей.
Особенно тяжело голод переносили дети. О них заботились особо. Учителя часто готовили пареную калину, стакан которой давали ученику на перемене. Летом в пионерских лагерях можно было отведать импортной сухой картошки и блюда из американского яичного порошка. Жизнь в этом плане начала меняться в лучшую сторону в 1943 году. Специальные столовые были открыты для детей, нуждающихся в усиленном питании. В зале бывшего ресторана «Централь» (Красный проспект, 23) открылась детская столовая №7, которая кормила детей фронтовиков. В конце года появилась вторая такая столовая — в Окружном доме Красной армии (Красный проспект, 63).
Карточная система была ликвидирована лишь в 1947 году. После ее отмены некоторое время еще существовала бескарточная торговля при сохранении норм отпуска товаров в одни руки.
Многие жители Новосибирска имели домашний скот. На городских улицах можно было встретить пасущихся коз, коров, лошадей.
Особенно тяжело голод переносили дети. О них заботились особо. Учителя часто готовили пареную калину, стакан которой давали ученику на перемене. Летом в пионерских лагерях можно было отведать импортной сухой картошки и блюда из американского яичного порошка. Жизнь в этом плане начала меняться в лучшую сторону в 1943 году. Специальные столовые были открыты для детей, нуждающихся в усиленном питании. В зале бывшего ресторана «Централь» (Красный проспект, 23) открылась детская столовая №7, которая кормила детей фронтовиков. В конце года появилась вторая такая столовая — в Окружном доме Красной армии (Красный проспект, 63).
Карточная система была ликвидирована лишь в 1947 году. После ее отмены некоторое время еще существовала бескарточная торговля при сохранении норм отпуска товаров в одни руки.
Людмила Кузменкина
ГК Поляков. Реклама. ERID F7NfYUJCUneTTTrbxp4M
ООО "Цифра брокер". Реклама. ERID F7NfYUJCUneTTTrbxpSK